ВЕЛИКОЕ ДРЕВО МИФА
Гнев богов. Единообразие ономастики потопных преданий ставит мифолога перед непростой проблемой: откуда при одинаковости имен такой гигантский разлет в системе изложения материала - от крайне простой, незатейливой истории утопления асилками церкви в озере под Минском до громоздкого, многоходового талмудического рассказа о потопе? Действительно, расхождения в сюжетах легенд таковы, что не объединяй их ономастика, вряд ли можно было бы заподозрить происхождение их из одного гнезда. Все так, и не совсем так. В хаосе мифов о потопе, кроме системы в именах, есть и своя система в сюжетных построениях.
Грубо сюжетный свод потопных легенд делится на две категории: описывающих бедствие как явление локальное и как явление вселенское. В эти две схемы практически полностью укладывается все сюжетное многообразие потопной мифологии. Мифы о локальной катастрофе я называю “китежской” серией легенд (саму русскую легенду о граде Китеже мы будем разбирать особо), к ней относится и белорусское предание об асилках. Мифы, в которых говорится о вселенском бедствии, можно назвать “библейской” серией. На первый взгляд, ничего кроме катастрофы обе категории легенд не объединяет. Но на самом деле это не так, “библейская” история во всех ее видах - прямое продолжение “китежской” легенды. И наша следующая задача: показать, в чем заключается связь и преемственность обеих сюжетных схем.
О месте “китежской” легенды в потопной мифологии вряд ли можно сказать больше, нежели то, что она является корнем, из которого выросло могучее древо этой мифологии, преданием-основой всего необъятного свода потопных сказаний. Практически “китежская” легенда, особенно в ее русском варианте, не миф, а историческое свидетельство, сформировавшееся едва ли не сразу же вслед за бедствием. Схема его выглядела приблизительно так: стояли в долине города, нахлынуло море и затопило их, образовалось озеро, ставшее для уцелевших после катастрофы предметом почитания.
Со сменой времен историческое ядро сказания, как дно корабля ракушками, стало обрастать чертами и деталями мифологического порядка, пока они в конце концов полностью не скрыли под собой исторические реалии первоначального рассказа. И выяснение того, как это произошло, анализ основных этапов мифологического оформления “китежской” легенды - главная цель данной главы.
Первый росток мифа в потопной истории пророс тогда, когда палестинские сказители, поначалу просто, без затей рассказывавшие о потопе в долине Сиддим, задумались над такой важной проблемой как причина бедствия. Допустить, что катастрофа была следствием игры слепой стихии, эгоцентричное первобытное мышление наших предков не могло. Видя во всех происходящем замкнутую на человеке причинно-следственную цепь, они, естественно, и в палестинской катастрофе склонны были прозревать высший промысел. И весь вопрос заключался в уяснении, в чем этот промысел состоял.
Поначалу праиндоевропейские сказители, скорее всего, причину катастрофы объясняли наиболее естественным для их понимания образом - гневом богов. Если быть совсем точным, гнев богов, по мнению рассказчиков, вызвало пренебрежение палестинцами правилами гостеприимства: они плохо приняли явившихся к ним под видом людей богов и поплатились за это. Так объясняют бедствие очень древние фригийская, ликийская, пелазгийская легенды о потопе, библейское предание о Содоме и Гоморре, филиппинская сказка Тамариндового озера, потопная легенда Коморских островов и островов Палау. Таким образом, судя по древности, широте географии и архаичности социальных установок данная версия более других вправе претендовать на звание первейшей, изначальной.
В дальнейшем же, сохранив первоначальную установку на взаимосвязь между людьми и состоянием природы, сказители стали толковать причину бедствия много шире: богоборчеством допотопных людей, их нравственными и физическими изъянами.
Явным признаком деградации и распада первоначальной схемы можно считать более или менее индифферентный подход к проблеме причин потопа: земля утонула, будучи отягчена людьми, животными и плодами (индийская легенда о Вишну-вепре), катастрофа - просто прихоть богов (греческая версия).
Люди-рыбы. Вторая задача, которую сказители пытались прежде всего решить путем мифологического оформления, это - судьба погибших людей. Кем стали они, очутившись под водой? Более чем вероятно, что по русской версии, люди, погибшие при потопе, превратились в лягушек.
Конечно, на это можно возразить, что лягушки в легенде о граде Китеже не упоминаются. Все так. Но русский вариант сказания записан очень поздно и к тому времени оказался целиком переработанным в христианском духе. Для лягушек в таком варианте легенды места не оставалось. Однако, очень верю, что россияне представляли себе китежан в виде лягушек. За это говорят отголоски культа лягушки, существовавшего у русских в пору язычества: сказочный образ царевны-лягушки и запрет на употребление лягушек в пищу.
То, что всякого рода пищевые запреты связаны не с некой исконной брезгливостью к тем или иным животным, а с давним религиозным почитанием их, прежде всего в качестве животных предков (тотемов), блестяще доказал Джеймс Фрэзер. Нам остается лишь продемонстрировать, что русский культ лягушки восходит к переосмысленным образам утонувших в Палестине предков.11
Собственно, решающим доводом тут может быть массовость использования образа лягушки в потопных легендах других стран. У Овидия сохранилась очень любопытная и чрезвычайно древняя ликийская версия китежской легенды. Поэт рассказывал, что богиня Латона однажды пришла в Ликию. День был жаркий, и богине очень хотелось пить:
“Вдруг озерко с необильной водою в глубине увидала
Дола; жители сел ветвистую там добывали
Вербу и гибкий тростник с любезной болоту осокой.
Вот подошла и, колена согнув, опустилась Латона
Наземь, стремясь почерпнуть студеной струи и напиться.
Сельский народ не велит...
Мало того: ногами они и руками взмутили
Озеро, с самого дна они подняли тину, нарочно
В воду туда и сюда с намереньем прыгая злостным.
Жажду гнев одолел: дочь Кея теперь уж не молит
Их, недостойных, и слов, для богини чрезмерно смиренных,
Не повторяет уже. Вот, к звездам руки подъемля,
Молвит: " Будете жить вы вечно в озере этом!”
Воля богини сбылась; им нравится быть под водою,
То в глубине озерка всем телом своим погружаться,
То выступать головой; то по водной поверхности плавать...
Спинка у них зелена, а живот - часть главная - белый,
В тинистом омуте, - род новоявленный, скачут лягушки”.
(Метаморфозы)
У бушменов есть любопытный рассказ о чудесном превращении после катастрофы неких живших до бушменов “первых людей”. Сообщалось, что в одной семье жила девушка, которая тайно убивала и ела каких-то “детей Воды”. Наказанием всей семье был ураган, “девушку, по вине которой это случилось, вихрь унес первой... И вот все они превратились в лягушек. И все их вещи: стрелы отца, тростниковые циновки, из которых сделаны хижины, - все оказалось в воде, так как люди стали лягушками. Они теперь растут у воды, это вещи первых людей, которые жили здесь до нас.”
Индейцы племени тембе рассказывали, что жил некогда юноша-сокол. Однажды он “уговорил родителей отправиться с ним в один дом на танцы. Он звал с собой и других жителей деревни, но те не захотели. Пришли они в этот дом и стали танцевать. И вдруг юноша отделился от земли, взвился в воздух и унес с собой родителей... И пошел тут сильный дождь, и шел он всю ночь; вода поднималась все выше и выше; много людей в ту ночь утонуло. Лишь несколько человек спаслось, потому что они догадались залезть на пальмы... В темноте люди жалобно перекликались, словно жабы, и так долго перекликались что в конце концов и в самом деле превратились в жаб”.
Будущее покажет, что упоминание в такого рода рассказах архитектурных сооружений ( на подобие хижины для танцев, как в предыдущем рассказе) не случайно, они - местные аналоги русского града Китежа. А пока отметим, что несмотря на обилие версий и широту географии, превращение жертв катастрофы в лягушек не единственный и не первоначальный вариант решения проблемы судьбы утонувших в Мертвом море людей. Первосказители, сказители Палестины, думаю, утверждали, что их предки превратились в рыб. Судить так позволяет та особая роль, которая отводилась рыбе в потопных сказаниях.
Рыбоподобный бог Эа предупреждает “ноя” о грядущей катастрофе в аккадской версии мифа. В древнеиндийском варианте рыба не только оповещает местного “ноя”, но и, будучи выращена им, буксирует ковчег к Гималаям. В потопной легенде бхилов бог-губитель в наказание за болтливость вырезает рыбе-вестнику катастрофы язык, после чего рыбы замолкают навсегда. У вальманов, живущих на северном берегу Новой Гвинеи, рассказывали, что потоп был карой за съедение огромной рыбы, “не успели нечестивые люди съесть рыбу, как вода поднялась со дна и с такой силой хлынула на землю, что никто не успел спастись”. Южно-американские индейцы куруайя и североамериканские индейцы кри утверждали, что людей утопили злые рыбы.
Существует немало версий легенды, в которых прямо говорится о превращении утонувших людей в рыб или подразумевается таковое. Например, индейцы майя рассказывали, что в век первого солнца произошла катастрофа, после которой “все исчезло, все было смыто водой, а люди сделались рыбами”. В одной китайской версии о герое-спасителе говорится:” Если бы не было Юя, мы бы, верно, стали рыбами!” Похожую фразу произносит богиня Иштар в аккадском варианте мифа о потопе:” Для того ли рождаю я сама человеков, чтобы, как рыбий народ, наполняли море!” У тамилов их утонувшая прародина прямо называется “Страной рыбы”.
Наконец, самое любопытное, у сирийцев, видимо, со временем сформировался специальный ритуал, призванный предупредить окончательное уничтожение предков, обратившихся при последней катастрофе в рыб. В силу географической близости сирийского Кадеша к месту событий этот ритуал в наиболее полной форме сохранился именно в данном, уже упоминавшемся на этих страницах городе. Пусть читатель простит мне дальнейшую ,обширную цитату из Лукиана, в ней все так выразительно, так напоено глубокой древностью, что, право, было бы грехом ограничиться в данном случае кратким сухим пересказом. Лукиан пишет:” Есть там озеро неподалеку от святилища, в нем прикармливается много рыб разных пород. Некоторые из них вырастают до очень больших размеров. Все рыбы имеют имена и приплывают на зов. При мне у одной из них было украшение, прикрепленное к плавнику. Я часто видел ее с этим украшением.
Глубина озера очень значительна. Сам я его не измерял, но, говорят, в нем более двухсот оргий глубины. Посреди озера возвышается каменный алтарь. На первый взгляд кажется, будто он плавает и двигается в воде, и многие этому верят.
Мне же представляется, что алтарь просто стоит на большом, поддерживающем его столбе. Алтарь всегда украшен венками и покрыт курильницами. Каждый день много украшенных венками людей направляются к нему вплавь, чтобы помолиться там.
На озере происходят большие празднества, которые называются “Спуском к озеру”, так как во время них все священные изображения спускаются к озеру. Первой приходит Гера, чтобы Зевс не увидел рыб раньше ее; если бы это случилось, то, говорят, погибли бы все рыбы. Затем спускается Зевс, тоже посмотреть на рыб, но Гера становится перед ним, удерживая его, и мольбами склоняет удалиться”.
Необычайно выразительным представляется мне это описание озера и связанного с ним празднества. Рыбы, подобно людям, имеющие свои имена; якобы плавающий каменный алтарь - забавный синтетический отзвук ковчега и “арарата”, к которому для молитвы полагалось добираться вплавь, - все это вещественные отголоски мифа о потопе. Но особенно выразительно празднество “Спуск к воде”. В нем явно отразился хронический страх сирийцев перед повторением катастрофы, после которой не уцелеют даже рыбы. Попытка заслонить изображением сирийской богини так настрадавшихся предков-рыб от испепеляющего взора злопамятного верховного божества - примета этого укоренившегося в сердцах сирийцев, передаваемого из поколения в поколение страха.
Таким образом, более чем вероятно, что в первоначальном варианте мифа о потопе утонувшие люди превращались в рыб, а не лягушек. Из этого, однако, не следует, что обе версии сколько-нибудь противоречат друг другу. Древний человек не был столь тонким биологом-классификатором, чтобы различать земноводных и рыб, для него они были существами одного класса, поэтому заменяя в мифе одних другими, ничего противоречивого или исключительного не творил.
Подводя на этом итог анализа первых стадий мифологического оформления исходного, чисто исторического сказания о потопе, следует заметить, что поначалу к нему были добавлены только две детали: гнев богов за нарушение правил гостеприимства в качестве причины потопа и в качестве следствия его - превращение утонувших людей в рыб.
Однако с помощью этих двух деталей-комментариев, как бы обрамляющих исторический раздел легенды о потопе, сказители решали лишь некоторые и не самые важные проблемы, прямо вытекающие из прискорбного факта сокрушительного бедствия, пережитого Палестиной. Необходимо было ждать продолжения и спустя некоторое время оно последовало.
“Ной”. После того, как стало все ясно с причинами и результатами потопа, уцелевшие после катастрофы остатки палестинского народа не могли не задуматься над причинами собственной целости, мотивах избирательности божьего гнева, пощадившего часть местных жителей. “Видимо, не все наши предки нарушали правила гостеприимства, коль кто-то уцелел в катастрофе” ,- подумали они. И с этой мыслью вошла в потопное сказание тема спасенной праведности.
Поначалу, вероятно, эта праведность распространялась на всех спасшихся от бедствия и не имела в легенде конкретного носителя. Но со сменой времен, по закону жанра, общенародная добродетель персонифицировалась в лице праведного царя-одиночки или, пользуясь привычной нам библейской терминологией, “ноя”.
Какой-то свой, особенный образ “ноя” палестинские мифографы, как это часто бывает, выдумывать не взялись и облегчили себе работу тем, что просто продублировали в его лице и лице его жены более древний, допотопный миф о близнецах: брате и сестре - первых людях, родоначальниках человечества. То есть, путем простого калькирования произвели “ноя” с женой от “адама” и “евы”.
Отсюда и пошли все те, необусловленные логикой событий версии о кровосмесительных браках (инцестах), между уцелевшими после катастрофы парами, которыми, как уже говорилось, так богата потопная мифология. Например, только сцепкой двух этих разных мифологических слоев можно объяснить основные противоречия библейского предания о Содоме и Гоморре, т.е. как то, что спасшиеся дочери праведного Лота решились на инцест, так и то, что, несмотря на очевидно местный характер пережитого бедствия, они делали это, будучи твердо убеждены, что кроме Лота на земле мужчин больше нет и необходимо срочно восстанавливать человечество.
Верность нашей реконструкции происхождения образа “ноя” от “адама” подтверждается наличием в некоторых вариантах легенды прямых отождествлений перволюдей из близнечного мифа с героями мифа о потопе. Например, в потопной легенде индийцев местный “ной” (Ману) - третий на земле человек. У греков титан Прометей выступал в роли создателя первых людей и одновременно являлся отцом местного “ноя” и дядей его жены. В мифологии скандинавов вода потопа толковалась как кровь первочеловека, зарезанного Одином.
Таким примеров можно было бы привести еще множество, но, думаю, лучше всего ограничиться одним, наиболее выразительным, прямо отсылающим “ноя” к “адаму”. Такой пример дает талмудическая традиция иудеев. Согласно ей, Ной взял с собой в ковчег тело Адама, и оно гигантским барьером отделяло мужскую часть судна от женской. Может ли быть более ясное указание на происхождение образа “ноя” от “адама”?
Однако, здесь следует заметить, что мифографы, облегчив себе работу простым переносом героев прародительского близнечного мифа в ткань мифа о потопе, поступали не слишком дальновидно, так как тем самым бросали семена сомнений и тревог в сердца тех, для кого потопная легенда являлась или становилась их собственной историей. Кровосмешение, положенное в основу этногенеза, рождало комплекс неполноценности у всех, возводивших свой род к “ною” и его жене. Противоречие между праведностью прародителей и извращенностью их брака мучило и пугало носителей потопной легенды, рождало ощущение изначальной порчи генофонда.
Долго держать в себе сомнения такого рода позднейшие сказители не могли и эти сомнения стали выплескиваться наружу в образах мятущихся, мучительно переживающих свое двусмысленное положение послепотопных близнецов. Об этих муках, болях соединения говорится во многих версиях мифа о потопе, я же приведу лишь одну - “ведическую”, так как от нее только они и остались.
В древнейшем памятнике индийской литературы “Ведах” сохранился любопытный диалог между богом смерти Ямой и сестрой-женой его Ями. Однако прежде чем привести отрывок из него, несколько слов о месте Ямы и Ями в потопной мифологии. Принадлежность их образов к потопной тематике сомнения не вызывает. Яма и Ями - двое из трех первых людей, брат и сестра официального индийского “ноя” (Ману). Иранский дубликат Ямы - Иима - “ной” иранской версии мифа о потопе. К сожалению, от самой ведической версии мифа ничего не осталось, кроме коротенькой фразы, что Яма “прошел морские воды” - вот и все. Зато расширено представлен в “Ведах” последовавший за спасением диалог героев, в которых Ями пытается склонить брата к кровосмесительному сожительству, а Яма против инцеста возражает:
(Ями)
“Повернула бы я друга на дружбу
хоть и прошел он морские воды
мудрый родитель зачал бы внука
в начале провидящий продолжение.
(Яма)
Но друг твой не хочет подобной дружбы
с женой однокровной как чужеродной
ибо Асуры сыны небодержцы
великую землю обозревают.
(Ями)
Но ведь этого хотят эти боги
да был бы сын от первого из смертных
да вошла бы мысль твоя в наши мысли
как супруг к супруге в плоть ты вошел бы” и т.д.
(Х,10,1-3).
Мазохизм не в традициях человечества, поэтому сказители скоро взялись пересматривать самоистязающую концепцию прародительского инцеста. Преодолевался грех обычно тремя способами: ослаблением родственных связей между пережившими бедствие людьми, передачей супружеских функций “ноя” какому-либо божеству, внеполовым восстановлением послепотопного человечества.
Как забавный курьез здесь можно отметить, что такие великие хитрецы как греки попробовали на своих послепотопных прародителях - Девкалионе и Пирре - все три способа преодоления инцеста разом. Во-первых, они утверждали, что их предки были не родными, а двоюродными братом и сестрой. Но Овидий, страстный собиратель пикантной мифологии, постоянно заставлял Девкалиона начинать свое обращение к Пирре со слова “сестра”:
”Нас, о сестра, о жена, о единая женщина в мире,
Ты, с кем и общий род, и дед у обоих единый,
Нас ведь и брак съединил, теперь съединяет опасность,-
Сколько не видит земли Восток и Запад, всю землю
Мы населяем вдвоем. Остальное все морю досталось.”
Во-вторых, некоторые эллины утверждали, что Девкалион был рогат, и своего первенца - Эллина - Пирра родила не от него, а от Зевса. В-третьих, большую часть обновленного человечества Девкалион и Пирра воссоздали внеполовым путем - посредством брошенных через голову камней. Вот как описывает этот магический акт Аполлодор:” Зевс, послав к Девкалиону Гермеса, разрешил Девкалиону просить у него все, что ни захочет, и Девкалион пожелал возродить людской род. Тогда Зевс повелел ему бросать камни через голову. Те камни, которые бросал Девкалион, превращались в мужчин, те же, которые бросала Пирра, становились женщинами”. Остается добавить, что прием с бросанием камней пришелся по душе многим сказителям, он встречается в потопных легендах индейцев макуша, таманак, в индонезийском мифе о потопе.
Не обрели покоя души мифографов даже тогда, когда отказавшись и от кровосмесительной, и от магической форм воссоздания послепотопного человечества, они свели дело к изображению спасения обычной, не связанной узами родства супружеской четы. Такой вариант не решал проблему инцеста, а лишь отодвигал ее, так как, пусть не самому “ною” с женой, так их детям все равно пришлось бы вступать в кровосмесительный брак. Выход был один: увеличить число плавающих в ковчеге, с тем, чтобы исключить инцест даже в перспективе. Так родился весьма популярный восьмичленный вариант команды ковчега: “ной” с женой, три их сына с тремя невестками - который, наконец, освободил сказителей от печальной необходимости каждый раз извиняться за непотребное поведение послепотопной пары.
Помимо восстановления первоначального образа “ноя” и эволюции его, анализ потопной мифологии позволяет реконструировать и первоначальное имя “ноя”. Звучало оно приблизительно как “Ман” (или Мин) и означало “Премудрый”.12 Собственно, имя Ману (Мудрый) носил “ной” не самой ранней индийской легенды о потопе и считать его эталонным не было бы серьезных оснований, если бы не дубликаты этого имени в других потопных мифах.
Во-первых, в качестве тезок индийскому Ману напрашиваются имена некоторых американских “ноев”: инкского Манко, алголкиндского Манибозо, папагосского Монтесумы. Во-вторых, тезками индийского Ману, вероятно, можно считать мифических персонажей, прямо с потопной легендой не связанных, но занимающих в национальных мифологиях места, традиционно отводимые “ною”: прародителя народа или первого царя. Таковыми являются: Мин (первый египетский царь), Минос (первый критский царь), Манес (первый лидийский царь), Миний (первый царь греков-минийцев), Манн (первый германец).
В-третьих, существуют легенды, в которых первоначальное имя “ноя” - “Мудрый”, сохранилось без первоначальной фонетики, но в достаточно близком к оригиналу переводе. Это: “Весьма премудрый” (Атрахасис) - имя “ноя” вавилонского мифа, “Мудрец” (Куниан) - имя “ноя” мифа индейцев гарскин, “Промыслитель” (Прометей) - имя отца и ангела-хранителя греческого “ноя”, “Пророк земли” (Чиовотмахке) - имя отца и ангела-хранителя “ноя” мифа индейцев пима.
В-четвертых, существуют легенды о потопе, в которых особая роль отводится богам, олицетворявшим мудрость. Таковы: месопотамский Эа, египетский Тот, ацтекский Кетсалькоатль. Или наоборот, мудрость приписывается мифическим персонажам, в чьих именах угадывается потопный подтекст. Например, Диоген Лаэртский писал, что родоначальником философии у ливийцев был Атлант, а у финикийцев некий ОХ (Жизнеописание,1,1). Мысль о тождестве финикийского Оха со старым нашим знакомым Огом Васанским выглядит весьма правдоподобно, и обращает на себя внимание только то, что слова Диогена Лаэртского о нем, кажется, единственное упоминание палестинского царя-великана Ога в греческой литературе и что он выведен именно в качестве родоначальника финикийской философии, т.е. отцом финикийского мудрствования.
Наконец, к той же серии можно причислить имя “ноя” аккадо-шумерской версии мифа о потопе. Хотя аккадо-шумерский “ной” - Утнапишти-Зиусудра - назывался в тексте “весьма премудрым”, но буквальный смысл его имени был иным: ”Нашедший жизнь далеких дней”. Однако из этого не следует, что этот эпитет сколько-нибудь противоречит имени, такое имя очень подходит к образу пророка-мудреца и, видимо, является литературным клише, просто расшифровывающим имя “премудрый”. Таким образом, частота употребления и широта географии позволяет считать нашу реконструкцию первоначального имени “ноя” - Ман (Премудрый) - достаточно правдоподобной.
“Шестоднев”. Если бы сказители позаимствовали из древнейшего слоя своей мифологии только пару прародителей-близнецов, в том не было бы большой беды. Во всяком случае ограничиться они только этим заимствованием, исторический раздел предания о потопе вряд ли подвергся бы тем искажениям, каким он подвергся, и которые до неузнаваемости переменили его поначалу простой и бесхитростный лик.
Дело в том, что начальный рассказ о перволюдях-близнецах, попавший потом в потопную мифологию, существовал не сам по себе, а являлся частью обширного свода сказаний о сотворении мира или, пользуясь библейской терминологией, “Шестоднева”. Это обстоятельство сыграло решающую роль в судьбе “китежской” легенды, так как, начав с заимствования образа “адама”, потопная мифология на этом не остановилась и постепенно целиком переделала “китежскую” легенду в духе образов и представлений сказания о сотворении мира (космогонии), практически ничего не оставив в “библейской” версии мифа от его подлинной, первоначальной истории.
Но прежде чем показать в деталях процесс переделки “китежской” легенды в “библейский” миф о потопе, следует поведать о том, что представляла собой праиндоевропейская космогония.
Сказать прямо, она мало чем отличалась от классического библейского “Шестоднева”. Приводить здесь его целиком нет смысла по двум причинам: он слишком велик по объему и представляет собой развернутое изложение этрусского “шестоднева”, конспективно изложенного в “Лексиконе” Суда. Выглядит этот конспект следующим образом:” Тиррения, страна, и Тиррены, называемые Тусками. Их историю написал ученый муж. Он рассказал, как бог - создатель всего на протяжении 12 тысяч лет трудился над своими творениями, которые он разместил в 12 так называемых обиталищах. В первом тысячелетии он создал небо и землю. Во второе - все видимую небесную твердь, в третье - море и все воды, текущие по земле, в четвертое - великое светила, солнце и луну, и звезды, в пятое - всю живность, летающую и пресмыкающуюся, и четвероногих, в воздухе и на земле и в воде, в шестое - человека. Как явствует, первые 6 тысячелетий ушли на создание человека, остальные же шесть уйдут на жизнь человеческого рода, покуда не истечет все время до исполнения двенадцати тысячелетий”.
Сходно с этрусской и также конспективно излагает иранскую версию сотворения мира пехлевийская книга “Бундахишна”. Согласно ей, верховное божество Ормазд создал “первым небо, вторым - воду, третьим - землю, четвертым - растения, пятым - скот, шестым - человека; седьмым же был сам Ормазд”.
Довольно близкой к первым двум можно считать орфическую космогонию, пропетую певцом Орфеем во время его плавания вместе с аргонавтами:
“Пел он о том, как когда-то и суша, и небо, и море,
Раньше друг с другом в одну перемешаны будучи форму,
В гибельной распре затем отделились одно от другого
И среди эфира свое неизменное заняли место
Звезды, а также луна и пути неуклонные солнца.
Пел он, как горы вознеслись, как громко шумящие реки
С нимфами вместе возникли, а также и всякие гады”
( Аполлоний Родосский, “Аргонавтика”)
Для полноты картины приведем еще индийскую космогонию, названную в “Ведах” “Космическим жаром”:
“Породил он закон и правду
возгоревшийся жар вселенский
из него же и ночь явилась
и волнение океана
Из волнения океана
появилось вращение года
год же дни разделил и ночи
царь всего, что моргает в мире.
Созидатель Луны и Солнца
сотворил их поочередно
сотворил он небо и землю
поднебесье и свет последним”
(Х,190).
После ознакомления с конспектами праиндоевропейского “шестоднева” читатель, думаю, уже хотя бы отчасти может представить себе, что могло бы произойти с “китежской” легендой, т.е. историей локального бедствия, если бы сказитель взялся пересказывать ее в образах и красках мифа о первых днях творения. Ниже мы в деталях, по “дням” проследим процесс насыщения “китежской” легенды космогоническими элементами. Но прежде приведем одну крайне любопытную версию потопной легенды, все очарование которой заключается в том, что в ней стихийное бедствие поставлено в прямую зависимость от того, будет или не будет принят местными жителями в качестве космогонического базиса праиндоевропейский “ шестоднев”.
Живущие в Новой Зеландии полинезийцы-маори рассказывали, что было время , “когда люди размножились на земле, то везде воцарилось зло, племена постоянно ссорились и воевали друг с другом. Люди перестали чтить бога Тане, сотворившего мужчину и женщину, и открыто осуждали это учение. Два великих пророка провозглашали истину о разделении неба и земли, а люди насмехались над ними, называя их лжепророками и утверждали, что небо и земля с самого начала существовали в том же виде, как и теперь.” Далее в мифе сообщалось, что пророки, сторонники эволюционной модели космоса, построили плоты и магическими заклинаниями вызвали потоп, утопивший всех, кто стоял за теорию космической неподвижности. Вот такая история. И присутствующая в ней взаимная увязка между мифом о потопе и мифом о сотворении мира может считаться первым шагом на пути полного их отождествления.
“День первый”. Прежде, значительно забежав вперед, мы рассказывали, почему и как под видом “ноя” и его жены в “китежскую” легенду были внедрены “адам” и “ева” - образы шестого дня творения. Теперь пришло время вернутся к привычному порядку и, развернуто излагая историю каждого “дня”, данную нам выше конспективно, показать все этапы “шестодневной” трансформации “китежской” легенды в “библейский” миф о всемирном потопе, начав от начала, с первого “дня” космогонии.
Мир начался с хаоса. “Прежде всего во вселенной Хаос зародился” (Гесиод). Далее Хаос почувствовал некое томление (Эрос - у греков, Желание - у финикийцев) и под воздействием этого томления разделился в самом себе на небо и землю. Земля в тот момент была залита первозданными водами и не показывалась еще суша на ее мокром лице.
Такую картину первого “дня” или первого этапа сотворения мира рисовала праиндоевропейская космогония. И именно ею подменили сказители историческую картину потопа в Палестине. Образ залитой первозданными водами земля из “шестоднева” создал новый, как бы не связанный с “китежской” легендой, всемирный, «библейский» вариант мифа.
Правда, произошла эта подмена не везде и не сразу. Мифографы еще какое-то время пытались примирить исторический озерный вариант с мифическим всемирным. Достигался этот компромисс приемом обратного хода: рассказывали, будто озеро разлилось и залило своими водами весь мир. В Уэльсе рассказывали, что карлик Эйвэнс или Эйденс вызвал разлив озера, воды которого затопили всю землю. Жители Новых Гибрид сообщали, что у некого Тагаро был пруд с соленой водой и рыбами, его дети повредили ограду пруда и разлилось море. Канадские индейцы племени монтанья рассказывали, что “некое могущественное существо, которое они называют Мессу, воссоздало мир после того, как он был разрушен великим потопом. По их словам, Мессу пошел однажды на охоту, его волки, которые заменяли ему собак, вошли в озеро, откуда больше не возвратились. Мессу тщетно искал их повсюду, пока птица не сказала ему, что видела волков, затерявшихся на середине озера. Он пошел вброд по воде, чтобы выручить волков, но озеро разлилось, покрыло землю и разрушило весь мир”.
Однако прошло время, и в описаниях катастрофы стала безраздельно царить картина первого дня творения: земля, залитая первичными водами, и набухшее ливнями грозовое небо над ней. После этого особенно выросла в описаниях бедствия роль неба. Будучи равноправным земле началом, небо своими дождями и молниями наравне с первозданными водами стало участвовать в уничтожении греховного человечества, а иногда, в наиболее поздних версиях даже доминировать, в одиночку, без помощи моря губя людей. Поэтому место, отводимое в мифе небу, вполне может считаться показателем большей или меньшей его архаичности: чем весомей доля дождя и молний в описании катастрофы, тем новей легенда.
Наиболее выразительной иллюстрацией мысли о замещении исторического описания палестинского бедствия картиной мира из первого дня “шестоднева” является соответствующее место из талмудической легенды иудеев. В ней говорится, что потоп “произошел от встречи мужских вод, падавших с неба, с женскими водами, поднимавшимися от земли”.
На первый взгляд, ничего особенного в этом описании нет. Но только на первый взгляд. Особую значимость ему придают знаки пола, расставленными над потопными водами: “мужские” с неба, “женские” от земли. Они - безукоризненное доказательство влияния “шестоднева” на миф о потопе, потому что именно для мифа о первом дне творения было характерно изображение неба и земли в виде пары божественных прародителей, мужчины и женщины, снабженных соответствующими половыми признаками. Мужчина-небо, возлежащий на женщине-земле и оплодотворяющий ее своим семенем-дождем - такова обычная картина первого дня “шестоднева”.
Говоря о влиянии картины первого дня творения на описание потопа не следует забывать, что возлежанию неба на земле предшествовал хаос. И конечно же, раз взявшись вплетать один миф в другой, некоторые, наиболее ретивые сказители потопной легенды не поленились еще более приукрасить ее за счет космической ретроспекции, продленной вплоть до хаоса. Поэтому, если читатель встретит миф о потопе, в котором будет говорится, что “небо смешалось с землей”, “воцарился полный хаос” (а таких известно множество), то он будет точно знать - откуда взялись все эти страсти.
Однако по части космической ретроспекции всех превзошли индийские сказители. Они включили в описание одной из своих версий потопного предания даже то, что предшествовало хаосу - “ночь кончины мира”. Речь идет о мифе, посвященном гибели Трипуры - города соперников индийских богов - титанов-асуров (разбору этого мифа мы потом посвятим особый раздел). Так вот, единоличным победителем Трипуры был Шива и едва ли не решающую роль в победе Шивы сыграла его космическая экипировка. Колесницей Шивы была вся вселенная: земля служила основой колесницы, мировая гора Меру - сидением, четыре книги “Вед” были конями, а четыре мировых периода от сотворения мира - ее дугами. Но самое ужасное, что тетивой лука Шивы служила сестра бога смерти Ямы - Каларатри - “Ночь кончины мира”. Именно с этой “Ночи кончины мира” была пущена роковая стрела, одновременно спалившая и утопившая Трипуру. М-да, читая такое, естественно, приходишь к выводу, что дальше идти некуда. Мало того, что сказители подменили картину пусть ужасного, но достаточно ограниченного, обозримого взглядом и умом палестинского бедствия, вселенским оглушающим своими масштабами образом первородного хаоса вселенной. У их индийских коллег хватило духу заглянуть еще дальше, за спину хаоса, чтобы сделать добытое оттуда предхаотическое небытие орудием уничтожения маленького палестинского городка. Право, индийская версия истории уничтожения Содома и Гоморры - ярчайший и пугающий пример способностей человека по части мифотворчества.
“День второй”. Следующий день творения по индоевропейскому “шестодневу” начался с того, что первенец неба и земли, бог, олицетворявший воздушное пространство, отделил небо от земли, раздвинув их своим телом. Сюжет этот всемирно известен, география его хождения не уступает географии мифа о потопе. Дубликатов его сохранилось множество, достаточно сказать, что в одной индийской мифологии на приоритет в отделении неба от земли в разное время претендовало не меньше четырех богов (Брахма, Индра, Вишну, Варуна). В потопной мифологии этот элемент космогонии, кажется, не использовался. Но мы ненадолго задержимся на нем, разрешая одну, любопытную, связанную с этим элементом путаницу в библейском Шестодневе, существенно повлиявшую на библейский рассказ о потопе.
Одной из самых больших странностей библейской картины сотворения мира было то, что Ягве в ней, правильно и по порядку сотворив сначала небо и землю, после этого внезапно отклонился от традиции и сразу же, внепланово создал свет: ”И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью” (Быт.1,4-6). Но самое замечательное в данном акте творения заключалось даже не в том, что он предшествовал размыканию объятий неба и земли силой эфира, а в том, что этот свет ниоткуда не исходил, существовал как бы сам по себе. Светила, по Библии, и в соответствии с общей традицией были созданы позднее, в четвертый день творения:” И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной (для освещения земли и) для отделения дня от ночи” (Быт.1,15). таким образом, получается, что в Библии Бог дважды отделял день от ночи, и первый раз творил свет, не снабдив его источником.
Не мы первые заметили это противоречие в библейской космогонии, оно в библеистике - старинный предмет споров и предположений. В христианском богословии, например, обычно отдается предпочтение трактовке, согласно которой, первый, созданный Богом до светил, свет был особым, божественным светом - “фаворским”, т.е. тем светом, которым сияло тело Христа в момент Его преображения на горе Фавор. Однако, думаю, дело можно было бы значительно упростить, предположив, что появление в Библии внепланового, ”фаворского” света было результатом ошибки в истолковании имени египетского бога пространства.
В Египте об отделении неба от земли рассказывали совершенно “правильно”. Будто их, обнимающихся, отделил друг от друга их первенец, бог пространства Шу (букв. “Пустота”). Но, что, вероятно, роковым образом повлияло на формирование библейской космогонии, в египетском языке слово sw означало не только пустоту, но имело второе значение - “свет”. Дальнейшее реконструировать уже нетрудно. Израильтяне после своего ухода из Египта, унеся с собой знакомую с детства картину: Шу, раздвигающий небо и землю - сохранили в памяти только второе значение имени бога Шу (“свет”). Осев в Палестине, они сложили то немногое, что вспомнилось из египетской космогонии, и получили как бы свою, а на самом деле искаженную египетскую космогонию, в которой не эфир, а некий “свет” отделял небо от земли. Позднее, в процессе создания Библии, ее авторы, сторонники строго монотеизма, не допускавшие свободу действия для космических сил, просто поставили этот “свет” вторым после неба и земли элементом божественного творения. Так родился “фаворский” свет. Он сыграл заметную роль в формировании библейского мифа о потопе, но о том, какова была эта роль, мы скажем несколько позднее. А сейчас вернемся к деяниям второго дня “шестоднева”, благо на отделении неба от земли они не закончились.
С фаворским светом мы, признаться, несколько поторопились, этой загадке в Библии предшествовала еще одна, связанная с образом летающего над водой Духа Божия. Вспомним первые строки книги Бытия:” В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездной, и Дух Божий носился над водой “ (Быт.1,1-3) Образ носящегося над водой Духа Божия толкуется по-разному, но наиболее вероятным представляется то толкование, что поначалу Дух Божий был птицей, которая добывала со дна первичных вод сушу, точнее зародыш земли, позднее превращавшийся в результате вспучивания в современную сушу.
Миф о водоплавающей птице, доставшей со дна первичного океана зародыш суши, вправе претендовать на звание общемирового. Нам же, думаю, лучше всего ознакомиться с ним в его русском варианте, известном под названием “О Тивериадском море”. С элементами христианского дуализма русская апокрифическая литература рассказывала этот миф о сотворении мира следующим образом: в пене морской видом подобный птице-гоголь зародился Сатана. Бог-Вседержитель на это событие реагирует словами “буди на земле море Тивериадское, горькая и соленая первая вода на воздусех утверждена”. Но восстал на Бога Сатана и птицей-гоголем, нырнув на дно моря Тивериадского, достал оттуда зародыш земли, точнее, “пену, яко ил”. Из этого-то, добытого со дна моря ила Бог, дунув, и создал позднее современную сушу.
Сказание “О Тивериадском море” мало о чем говорило бы нам, если там же, на Руси, оно, совершенно явно, не склеилось бы с мифом о потопе. Старообрядцы русского Севера рассказывали такую версию мифа :” Как кончился первый свет, все наши грехи смыло. Был потоп. Христос стал думать, как землю сделать. И заметил чирка. И сказал:” Спустись в море и достань землю”. Чирок заплакал, и у него на носу остались слезы; и он нырнул. Три года плавал, вынырнул и вынес земельку на носу. Взяли эту земельку, размутовали...” и получилась современная суша. Российский случай сцепления мифа о сотворении мира с мифом о потопе можно было бы посчитать чистым казусом, если бы этот казус не повторялся в сказаниях народов, родством с русскими не связанных, отделенных от них такими пространствами, что о заимствовании говорить не приходится.
Не скажу сейчас почему, но не об обсыхании земли после потопа, а именно о добывании ее со дна моря чаще говорится в потопных сказаниях североамериканских индейцев. Например, индейцы тинне сообщали, что “потоп был вызван обильным выпадением снега в сентябре. Один старик предвидел катастрофу и предупредил о ней своих близких, но безрезультатно. “Мы спасемся в горах”, - отвечали они ему, но все потонули. Старик же построил себе лодку и, когда начался потоп, поплыл в ней, спасая всех попадавшихся по пути животных. Будучи не в состоянии переносить так долго жизнь на воде, он опустил в воду бобра, выдру, выхухоль и северную утку, велел им отыскать затопленную землю. Только северная утка вернулась назад с комочком тины. Человек положил комочек на воду и стал дуть на него, отчего комочек разросся в целый остров. В течение шести дней старик выпускал животных на растущий остров, а затем и сам ступил на берег”.
Может показаться, что серию мифов о потопе, где земля достается со дна моря, с серией мифов, где земля обсыхает после потопа, ничто кроме бедствия не объединяет. Но на самом деле это не так. Чтобы убедиться в обратном, достаточно ознакомиться с потопной легендой ближайших родственников тинне - делаваров, которая представляет собой великолепный мост между двумя этими, внешне непохожими сюжетами. Делавары сообщали, что от потопа уцелело несколько человек, они “спаслись на спине черепахи, столь старой, что панцирь ее был покрыт мохом, как берег небольшой речки. Плывя таким образом, одинокие и беспомощные, они увидели пролетающего мимо них нырка и попросили его нырнуть в воду и достать со дна немного земли. Птица нырнула, но не смогла достать до дна. Затем она улетела далеко в сторону и вернулась с комочком земли в клюве. Черепаха поплыла за птицей к тому месту, где та разыскала сушу. Здесь люди осели и вновь заселили страну”.
Ознакомившись с этим восхитительным, потрясающим по своей выразительности вариантом мифа, думаю, читатель понял ,ЧТО в самом деле поначалу делали в бесчисленных мифах Старого Света бесчисленные птицы, выпускаемые из бесчисленных ковчегов. Конечно же, в согласии с деяниями второго дня “шестоднева” поначалу все они доставали со дна потопных вод зародыш земли - “арарат”. Но со сменой времен этот вариант мифа был так или иначе переосмыслен. Например, авторы Библии знали только то, что спасителем Ноя должна быть птица и для этого она должна принести ему что-то. Но что эта птица была водоплавающей, а не голубем, что не оливковую ветвь, а “пену, яко ил” она должна была принести “ною” - этого библейские авторы уже не знали.
Здесь сам собой возникает вопрос: почему американские варианты мифа оказались более архаичными по форме, нежели их якобы чрезвычайно древние старосветские аналоги? Причина здесь видится одна, то, что старосветские варианты мифа давно и усиленно подвергались так называемой “эвгемеризации”. Эвгемеризация - это ( названная по имени греческого философа Эвгемера, пытавшегося рационально истолковать отечественные мифы) система переделки мифа с целью сделать его более приемлемым для логики и знания, господствующих в тот или иной период общественного развития. Самым свежим примером эвгемеризации мифа о потопе можно назвать недавние попытки доказать правоту Библии по части описания потопа с апелляцией к “науке”, но при этом с исключением такого персонажа как Бог - персонажа, которого современное общественное сознание либо отрицает в принципе, либо считает Существом достаточно гуманным и дальновидным, чтобы не заниматься такими шалостями, как потоп.
Исключение Бога как персонажа мифа - пример современной эвгемеризации. Но такие процессы приспособления к общественным вкусам происходят в мифологии постоянно; отмена или видоизменение устаревших элементов рождают все новые версии мифа, часто очень далеко уходящие от его первоосновы. И легенда о потопе здесь не только не исключение, но наоборот - уникальный образец, на котором можно проследить все этапы тысячелетней переработки чисто исторического свидетельства, сначала расцвеченного всеми красками человеческой фантазии, а потом долго разъедаемого скепсисом и рассудочностью. Именно эвгемеризация, т.е. возросшая рассудочность сказителей, так далеко увела потопную мифологию Старого Света от ее девственной, по-детски доверчивой сестры - потопной мифологии американских индейцев.
Прежде бросая мостик из Старого Света в Новый, мы несколько поторопились, сразу сопоставив вариант мифа, в котором птица достает со дна моря “арарат”, с вариантом, в котором она наводит героев на “арарат”. Меж ними существовали еще промежуточные ступени.
После того, как версия с богоптицей, нырнувшей на дно моря за зародышем земли, была отвергнута по причине ее малой правдоподобности, на свет явился другой вариант, в котором птица приносит откуда-то землю и насыпает в море “арарат”. Именно такая версия более всего по сердцу оказалась индейцам племени короадо с юга Бразилии. Они рассказывали, что их предки пережили потоп, и лишь часть из них спаслась, забравшись на гору. Прошло “несколько дней, вода еще не спала, а им нечего было есть. Они ожидали смерти, когда услышали пение морских птиц саракура, летевших к ним с корзинами, полными земли. Которую птицы бросали в воду, отчего вода медленно убывала. Люди кричали птицам, чтобы они торопились; птицы призвали на помощь уток, и общими усилиями им удалось освободить от воды достаточно места для людей.” Очень похожую версию рассказывали обитатели острова Роти, только в ней функции птицы-спасителя были представлены несколько шире. Там сообщалось, что когда море остановилось, “морской орел, высыпал в воду немного сухой земли, и человек с женой и детьми спустился с горы и стал искать себе новую родину. А бог велел морскому орлу принести человеку всякие семена - маис, просо, рис, бобы, тыквенное и кунжутное семя, чтобы человек мог посеять их и прокормить себя и семью”.
Есть варианты мифа, в которых функция спасителя отнята у птицы и передана богу-разрушителю, который уже сам, напустив потоп, бросает героям зародыш земли. Например, батаки с острова Суматра сообщали, что, “когда земля стала старой и грязной, создатель, которого они называют Дебата, наслал великий потоп, чтобы истребить все живые существа. Последняя человеческая чета нашла себе убежище на вершине высочайшей горы, и вода потопа уже доходила до колен, когда “господин всего сущего” раскаялся в своем намерении положить конец человеческому роду. Тогда он взял ком земли, обмял его, привязал к нитке и бросил его на поднимающуюся воду, а человеческая пара вступила на него и таким образом спаслась. Когда ее потомство размножилось, то ком земли разросся и превратился в ту самую землю, на которой мы ныне живем”. Едва ли не тождественный данной батакской версии мифа является пересказанная нами прежде литовская версия легенды. В ней, если читатель помнит, верховное божество Прамжимас сначала напускает на землю потоп, но далее, сжалившись над остатками людей, бросает им скорлупу ореха, исполнившего роль спасительного ковчега.
В многочисленных более поздних вариантах мотив бросания “ною” зародыша земли был сильно видоизменен, и дело стали представлять так, что ни Бог ни птица, а сам “ной” бросал разного рода предметы за борт ковчега, с вершины горы или древа, с тем, чтобы по звуку определить: окончился ли потоп и спала ли вода.
Но вернемся к образу богоптицы из “шестоднева” и анализу его эволюции в системе потопных легенд. Ведь мотив бросания героем зародыша земли - лишь эпизод (хоть и богатый вариантами) данной эволюции.
Когда рассудочность сказителей потопной легенды дошла до той стадии, что всерьез рассказывать, будто птица принесла их предкам “арарат”, стало уже невозможно, сказители исхитрились и просто вывернули это место легенды наизнанку. По их новой версии не гора шла к Магомету, а Магомет шел к горе, т.е. птица не приносила герою “арарат”, а уносила его на вершину устоявшего среди волн “арарата”. Таких вариантов легенды разбросано по миру множество. Сохранился обрывок египетского мифа, в котором говорится, что бог Тот в образе ибиса перенес богов на своих крыльях во время катастрофы через какое-то “озеро Ха“(Ога?). Греки рассказывали, что некого Мегарея спасли от потопа журавли, перенеся на вершину горы Геранеи. Двух предков китайского народа мяо во время потопа якобы спасла орлица, унеся в когтях на сухое место, при таких же условиях и так же спас своих родителей юноша-сокол, по рассказа индейцев тембе, и т.д. и т.п.
Изъяв на данном этапе развития легенды мистический образ вздувающейся суши и сделав более естественным поведение птицы, мифографы все же не могли не сознавать, что ноша ее, с точки зрения птичьей физиологии и психологии, оставалась непосильной. Однако из сказанного не следует, что птицу-носильщика “ноя” в мифе сразу же заменила бессловесная наводчица, каковой она описана в знаменитейших легендах Ближнего Востока. Ей предшествовал образ птицы, достаточно ленивой, чтобы не таскать в своих когтях “ноя”, но тем не менее активно, а не пассивно участвующей в его судьбе. Образчик такого поведения птицы дает миф о потопе индейцев оджибве, в нем сообщалось, что герой Ненебоджо однажды решил убить водяных духов, он подкрался к ним и ударил палицей по голове и “вдруг видит: вода в озере поднимается. Он пустился бежать, но волны преследовали его. Зеленый дятел, попавшийся на встречу, показал ему дорогу к горе, где росла большая сосна. Ненебоджо взобрался на дерево и стал делать плот. Когда плот был готов, то вода дошла Ненебоджо до шеи. Тогда он взял с собой на плот по паре животных от всех пород, какие тогда существовали, и поплыл с ними.”
Думаю, только пройдя эту, запечатленную в мифе оджибве стадию активного помощника “ноя”, богоптица из второго дня “шестоднева” стала, наконец, тем бессознательным наводчиком, каким она предстает в якобы древнейших ближневосточных вариантах. Как, например, в вавилонской версии, где говорилось, что выпущенные из ковчега птицы просто измазали себе лапки глиной, и это послужило ясно приметой конца потопа.
Заключая на этом раздел, посвященный исследованию места элементов второго дня “шестоднева” в системе потопных мифов. Необходимо констатировать одно. “Шестоднев”, картиной первичных вод из первого дня сделав потоп всемирным, казалось, обрек человечество на полное уничтожение, но он же с помощью образов второго дня творения спас его, дав помощника - богоптицу и убежище - “арарат”. Более того, будущее покажет, что ВСЕ бесчисленные помощники и убежища “ноя”, какие бы облики и формы они не принимали, все они берут свое начало в элементах второго дня “шестоднева”: богоптицы и добытой ею со дна первичных вод “пены, яко ил”.
День третий. Начать рассказ о месте третьего дня “шестоднева” в потопной мифологии следует с того, что характернейшей чертой его является мучительность вживления этого отдела космогонии в ткань потопной легенды. Ни в каком другом случае белые нитки, скрепляющие предание о потопе с космогонией, не лезут в глаза столь явственно как в этом. Дело в том, что в третий день, согласно “шестодневу” были сотворены светила: солнце, луна, звезды. И как бы ни сопротивлялась душа мифографа дикой мысли об отсутствии до потопа солнца и луны ( но при наличии людей), будучи до конца последователен в своей привычке пересказа потопного мифа в образах и красках космогонической концепции, он не имел права умолчать о том, что до потопа светил на небе не было.
И слова эти были произнесены. Насилуя мифотворчеством свой здравый смысл, древние перуанцы утверждали, что впервые люди увидели солнце после потопа с вершины острова Тити-кака; индейцы киче говорили, что впервые солнце появилось после того, как их спасшиеся от потопа предки взобрались на гору Хакавиц; индейцы ябарана верили, что солнце вылетело из одной таинственной корзинки одновременно с излившимися из нее потопными водами. Все эти примеры можно было бы посчитать плодом особенного латиноамериканского творчества, но тоже самое утверждали живущие на Малаккском полуострове представители племени бенуа-джакан. Они рассказывали, что, когда пара их предков, спасшаяся от потопа, прогрызла борт ковчега и вышла на сушу, “все было покрыто мраком; не было ни утра, ни вечера, потому что солнце не было сотворено”.
Существовали версии мифа, в которой говорилось, что до потопа отсутствовала и луна. Например, живущие в Боливии чибча-муиски рассказывали эту легенду так: “ В далекие времена, еще до того, как луна стала сопутствовать земле, люди, населявшие плоскогорье Боготы, жили как настоящие дикари: они ходили голыми, не умели обрабатывать землю и не было у них не законов, ни обрядов.
И появился среди них некий старец; говорят. Он пришел из долин, что лежат к востоку от Кордильер, из Чингасы, и, как видно, принадлежал совсем к другому племени, потому что у него росла длинная густая борода. У него было три имени: Бочика, Немкетеба и Зухе. Старец научил жителей Боготы носить одежды, строить хижины, заниматься земледелием и жить общинами.
С собой он привез жену, и у нее тоже было три имени: Чиа, Юбекайгуайа и Хувтака. Но только прекрасная Чиа была очень злой женщиной - всегда и во всем шла она наперекор своему мужу, а тот желал людям только добра. Чиа заколдовала реку Фунсу, и она вышла из берегов, затопив всю долину Боготы. Много жителей погибло во время этого наводнения. Лишь кое-кому удалось спастись; они вскарабкались на вершины окрестных гор.
Разгневанный старец прогнал Чиа прочь, подальше от земли, и она стала луной с тех пор Чиа освещает нашу землю по ночам.”
Видимо, сходная легенда бытовала в преданиях легендарных пеласгов - предшественников греков на земле Эллады. Вывожу это из характерного для античной литературы клише, обычно прилагаемого к пеласгам эпитета - “долунные”. Термин “долунные” пеласги не был оставлен в покое до сего дня, некоторые ретивые писатели из околонаучной среды объявляли этот термин ясным свидетельством в пользу теории, будто потоп явился результатом перехода луны на околоземную орбиту. Мифологии и истории пеласгов мы посвятим особые разделы, а пока отметим главное: следуя той же логике, нам пришлось бы признать, что до потопа земля и в солнечную систему не входила, благо легенд, сообщавших об отсутствии солнца до потопа предостаточно. Что - очевидный нонсенс.
Однако нам сейчас по силам нечто большее, нежели простое признание нонсенсом мифографических бредней по части отсутствия до потопа солнца и луны. Теперь можно назвать их первоисточник - сцепка между потопной легендой и третьим “днем” праиндоевропейский космогонии.
Противоречие между историей потопа и рисуемой картиной небесных явлений, судя по сравнительно небольшому числу буквалистко-наивных легенд, издавна смущало самих сказителей. Поэтому приведение данного места рассказа о потопе в соответствии с нормами здравого смысла (эвгемеризация) стала одной из самых насущных задач.
Начали мифографы с того, что представили дело так, будто солнце и луна отсутствовали на небосводе лишь на время бедствия. Бразильские индейцы племени паумари, абедери и катауша утверждали, что в начале потопа густая мгла поднялась от земли к небу и дневной свет исчез; с ними соглашались эквадорские индейцы племени мурато, говоря, что катастрофа происходила в полной темноте. О темноте, как о спутнице потопа, рассказывали также на островах Гилберта в Микронезии. В несколько смягченном виде этот же “факт” сообщался в древнефризском предании о потопе:” Солнце скрылось за тучами, как будто оно не хотело больше смотреть на Землю”. Совершенно недвусмысленно на данный счет высказалась талмудическая традиция иудеев, она прямо утверждала, что пока длился потоп, солнце и луна не посылали своих лучей на землю, и Ною для исчисления времени приходилось пользоваться специальной, полученной от ангела книгой. Фактически о тех же небесных явлениях, но в поэтической форме сообщал “ной” аккадской версии легенды. Начинал он свой рассказ такими словами:
“Был готов корабль в час захода Солнца...
Что было светлым, - во тьму обратилось...”
А заканчивал такими:
“ Успокоилось море, утих ураган - потоп прекратился.
Я открыл отдушину - свет упал на лицо мне”
( О все видавшем).
Уклончивую позицию в вопросе о небесных явлениях во время потопа заняли авторы шумерской и библейской версий мифа. Они предпочли вообще не касаться этого щекотливого вопроса, а лишь отметили появление солнца (или его заменителя - радуги) в качестве знамения конца потопа. Шумеры, у которых бог солнца носил имя Уту, так описывали финал бедствия:
“Семь дней и семь ночей потоп заливал землю,
И огромный корабль ветры носили по бурным водам.
Потом вышел Уту, тот, кто дает свет небесам и земле.
Тогда Зиусудра открыл окно на своем огромном корабле,
И Уту, герой, проник своими лучами в огромный корабль.”
Очень своеобразно трактует данное явление Библия. С одной стороны, следуя уклончивой традиции шумеров, она лишь заключает период бедствия явлением радуги - заменителя солнца:” Я полагаю радугу Мою в облаке, чтобы она была знамением (вечного) завета между Мной и между землей. И будет, когда я наведу облако на землю, то явится радуга (Моя) в облаке; и Я вспомню завет Мой, который между Мной и между вами и между всякой душей живою во всякой плоти; и не будет более вода потопа на истребление всякой плоти” (Быт.9,14-16).
Но с другой стороны, есть в Библии строчки, намекающие на какие-то, связанные с потопом кардинальные изменения в небесной механике. Несколько ранее Ягве роняет такую выразительную фразу:”...не буду больше поражать всего живого, как Я сделал: впредь во все дни земли сеяние и жатва, холод и зной, лето и зима, день и ночь не прекратятся” (Быт. 8,22-23). Казалось, какой смысл было после потопа обещать не нарушать порядка смены сезонов, чередования дня и ночи, когда этот порядок был установлен еще во времена сотворения мира и, если верить Библии, с тех пор не нарушался. Загадка? Да, но только отчасти.
Вспомним, наш прежний анализ начала библейского Шестоднева, который назвал источник происхождения идеи “фаворского” света, света, появившегося в библейской космогонии как бы ниоткуда, сразу же после разделения неба и земли, задолго до создания светил. Читатель должен помнить, что, по нашей теории, “фаворский” свет породила ошибка в истолковании имени египетского бога пространства Шу (букв. ”пустота”, “свет”).
Однако эта ошибка много облегчила жизнь библейских сказителей потопной легенды. Их уже не могло озадачить сообщение, что до потопа светила на небе отсутствовали. Проблема освещения земли в допотопные времена, мучавшая остальных мифографов, здесь решалась крайне просто: до потопа земля освещалась “фаворским” светом.
Непосредственно этот свет ни в библейской, ни в талмудической версиях мифа не упоминается, но и там и, там подразумевается. Например, постбиблейские источники утверждали, что до потопа существовал особый, отличный от теперешнего жизненный цикл и особые отношения со светилами: женщины носили детей в утробе всего несколько дней, одним урожаем люди кормились по сорок лет, и сами обладали такой магической силой, что могли заставить служить себе солнце и луну. Даже когда разразился потоп и светила исчезли, это обстоятельство не слишком смутило Ноя, лишь затруднив ему правильное исчисление времени. Видимо, сходная картина представлялась библейским мифографам. Процитированный выше отрывок с обещанием Ягве не нарушать чередования дня и ночи, лета и зимы, недвусмысленно указывает на то, что эти чередования, обусловленные небесными циклами, были, вероятно, после бедствия в новинку.
Трудно сказать каким образом, но к той же библейской идее разрешать проблему совмещения потопной легенды с образами светил из третьего дня “шестоднева” путем изобретения каких-либо иных, предпотопных источников света пришли индейцы папагосы. Они рассказывали. Что до катастрофы солнце “было ближе к земле. Чем теперь; лучи его делали все времена года одинаковыми и одежду излишней.”
Предполагать отголосок того же замысла можно в одной оригинальной детали потопного сказания африканцев из низовий Конго. По их словам, потоп был тогда, когда “солнце и луна встретились однажды, причем солнце обдало луну грязью и таким образом несколько затмило ее свет; по это причине часть луны время от времени остается в тени. Во время этой встречи произошел потоп”. Конечно, не об отсутствии до потопа луны, а только о появлении ее фаз сообщает эта легенда. Но то, что, по мнению африканских сказителей, с потопом в небесной механике произошли некоторые изменения и не в лучшую сторону, ставит данное предание в один ряд с еврейским и папагосским.
Наконец, в этой связи нельзя не отметить, что по представлениям индейцев майя, нынешнему, послепотопному веку предшествовали четыре мировых периода, полностью уничтоженных катастрофами. И каждый из этих периодов назывался “Солнце”, только с разным порядковым номером. Видимо, “солнца” прежних лет были неподвижны. Так как нынешний век отмечен особым названием века “Солнце движения” и, надо полагать, все эти упоминания солнца в катастрофическом контексте не случайны и связаны с давней попыткой увязать легенду о потопе с образами нарождающихся светил из третьего дня “шестоднева”.
В дальнейшем эволюция образа допотопного солнца в мифе пошла следующим путем. Сначала мифографы поставили солнце в позу обиженного, т.е. в качестве причины бедствия выдвинули обиду на людей ни какого-либо другого, а именно солнечного божества. Пример египетского мифа “Уничтожение людей”, в котором бог солнца Ра выступает инициатором душегубства, наиболее нагляден для данного случая.
Потом в согласии с мыслью Библии, что солнце создано “для знамений” (Быт,1,15), допотопное солнце стали изображать предвестником катастрофы. Например, бразильские индейцы рассказывали, что перед потопом солнце меняло цвета и даже делалось синим, а талмудическая традиция иудеев сообщала, будто, в предвестии бедствия, солнце целую неделю всходило на западе и заходило на востоке.
Финал эволюции образа допотопного солнца можно назвать тот момент, когда зараженные эвгемеризмом, наиболее склонные к рассудочности сказители, обытовляя, приземляя сказочное, мистическое, отказались от самой идеи, будто с солнцем может происходить нечто против установленных от века правил, и стали говорить, что потопу предшествовала засуха, естественно, произошедшая по вине солнца, но не вопреки его природе. О засухе перед потопом сообщала ассирийская версия мифа и арабское предание о гибели народа ад. Предание филиппинского племени ифугао делало особый упор на то, что источником воды всемирного потопа явилась яма, выкопанная измученными засухой людьми.
Так как с включением в потопный миф описание засухи число бедствий в нем удвоилось, мифотворчество, вопреки распространенному мнению, отнюдь не склонное городить ужас на ужасе и вообще заниматься дублированием, стало в некоторых случаях делать упор на засуху и сокращать собственно потопный отдел, постепенно низводя его до рудимента, а иногда смело отбрасывая совсем. Таким образом, великое древо потопной мифологии произвело на свет ветвь “засушливых” легенд, как бы независимых от “потопных”. Основой сюжета данного разряда легенд стало внезапное катастрофическое усиление жара солнца, едва не приведшего к последствиям, равным всемирному потопу.
Лучшей иллюстрацией в этом случае может послужить более чем известный греческий миф о Фаэтоне.13 Кратко суть мифа такова: Фаэтон - сын бога солнца Гелиоса приходит к отцу и просит его на один день уступить ему место в солнечной колеснице. Гелиос поначалу отказывает, но после долгих просьб уступает. Фаэтон занимает место отца в колеснице, но солнечные кони, чувствуя слабость рук юноши, перестают ему повиноваться и несут без дороги, грозя дотла спалить то небо, то землю. Спасая космос от гибели, Зевс мечет в Фаэтона молнию и тело юноши падает в реку Эридан.
Может показаться, что в мифе о Фаэтоне ничего “потопного” нет. За вычетом самого факта катастрофы. Но это не так. Во-первых, название реки, в которую упало тело Фаэтона - Эридан, явно представляет собой вариантом названия Иордана, на подобие “Урда” из скандинавских мифов. А так как Иордан - характерная метка Палестины, прародины потопной мифологии, то мысль о причастности к ней мифа о Фаэтоне, думаю, не должна казаться слишком дикой.
Во-вторых, сохранился дубликат мифа о Фаэтоне, в котором фигурирует ковчег - типичный элемент потопного мифа. У северо-западных индейцев из племени квакиютлей Фаэтон звался Норком. Солнечное происхождение этого мифического персонажа не вызывает сомнений: земная женщина зачала его от небесного вождя с помощью солнечного луча. Однажды навестив отца в его небесной обители, Норка взял и стащил солнце вниз. От близости солнца загорелась земля. Возмущенный отец отнял у Норки солнце, а его самого сбросил вниз. Но герой не погиб, он упал на водоросли и на них отправился в плавание. Такова основная схема мифа. Тождество его с мифом о Фаэтоне очевидно. Очевидна и связь с мифом о потопе. У соседних квакиютлям племен местный “ной” (Эль) именно водоросли использовал в качестве ковчега. Комментируя миф о Норке исследователь писал, что “ мотив мирового пожара по вине Норки и вопреки разрешению небесного отца как бы дополнителен по отношению к мотиву потопа, созданного старым вождем и угрожающего герою; иными словами, здесь герой (и младший) является инициатором космического хаоса, но не “водяного”, а “огневого””. Полностью согласен, хочу только добавить, что и Норка, и Фаэтон, и множество других мифических организаторов “огневых” катастроф своими действиями именно дополняли миф о потопе. “Огненная” катастрофа не подмена “водяной”, а прямое ее продолжение, она - финал эволюции образа солнца из третьего дня “шестоднева”, прикрепленного к мифу о потопе.
Назвав миф о Фаэтоне финалом образа солнца из “шестоднева”, мы, признаться, несколько переусердствовали. На этом заканчивается эволюция солнца в его допотопной ипостаси. Что касается послепотопного солнца, то развитие его образа шло своим, отличным от описанного выше путем.
Если читатель помнит, существовал такой шумеро-библейский вариант легенды, в котором, на вопрос о поведении солнца, давался уклончивый ответ: мол, что делало солнце до потопа неизвестно, известно только, что появление его (или радуги) знаменовало конец потопа. Данная версия замечательна тем, что роль солнца как бы совпадала с ролью птицы, выпущенной из ковчега, - нести благую весть о конце потопа. Но дублирование, как уже говорилось, не в характере мифотворчества. Поэтому оно довольно скоро стало тяготиться данным спаренным мотивом. А потом выпуталось. Изящество, с которым это было проделано, не может не вызвать восхищения. Петух! Птица, возвещающая восход солнца, в одном лице представила обоих носителей благой вести: голубя и солнца.
Чтобы читатель мог представить себе, как выглядит такая “петушиная” версия мифа, приведу потопную легенду восточно-азиатского племени банаров. Рассказывали, что “коршун когда-то поссорился с крабом и так ударил его клювом по черепу, что пробил в нем дыру, которая до сих пор еще видна. Чтобы отомстить за обиду, краб вздул море и реки до самого неба, и все живые существа погибли, кроме двух - брата и сестры, которые спаслись в огромном ящике. Они взяли с собой по паре каждого вида животных, плотно закрыли ящик крышкой и плавали по воде семь дней и семь ночей. Наконец, брат услышал пение петуха, которого послали возвестить нашим прародителям, что потоп прекратился и что они могут выйти из ящика. И вот брат выпустил на волю сперва всех птиц, потом остальных животных, а затем и сам с сестрой вышел на сушу”.
Крайне любопытную разновидность того же “петушиного” варианта мифа рассказывали бирманцы из племени цзингпо. Они говорили, что “когда начался потоп, некий Поупоу Нан-чаунг и сестра его Чанг-хко спаслись в большой лодке. Они взяли с собой девять петухов и девять иголок. После нескольких дней дождя и бури они бросили за борт одного петуха и одну иголку, чтобы узнать, не спала ли вода. Но петух не запел, а также не было слышно, как иголка упала на дно. Так они делали день за днем и все с одинаковым результатом; наконец, на девятый день последний петух запел, и слышно было, как последняя иголка ударилась о скалу. Вскоре после того брат и сестра смогли уже выйти из лодки”.
Иначе, нежели “идиотской” данную версию легенды назвать трудно, настолько в ней все противоречит здравому смыслу. Но в “идиотизме” мифотворчества, каких бы степеней он не достигал, всегда есть система. Не исключение здесь и потопный миф цзингпо. Характерное для него выбрасывание петуха за борт, конечно, представляет собой пережиток той стадии развития потопной истории в сцепке со вторым днем “шестоднева”, когда птица уже не доставала со дна моря зародыш суши, а приносила его откуда-то и сбрасывала “ною”. А петухом эта птица выведена, очевидно, потому, что эволюция образа солнца, из третьего дня “шестоднева”, достигла такого градуса, когда солнце, благовествуя о конце потопа, стало дублировать птичий благовест. Вот и все.14
О том, что в мифе о потопе фигурировала какая-то связанная с солнцем птица и что с ее появлением должно было нечто очень нужное “ною” брошено и принесено, знали не только сказители племени цзингпо, но и сказители многих других племен и народов, но последние распорядились этими элементами мифотворческого “конструктора” несравненно лучше первых. Ход их мысли можно представить следующим образом: птица что-то принесла или бросила “ною”, но так как птица была солнечная, то и принести она должна была нечто, связанное с солнцем. Само солнце она принести не могла, потому что получилось бы дублирование катастроф в духе мифа о Фаэтоне. Может быть, она тогда принесла “ною” частицу солнца - огонь? Конечно же, она принесла ему огонь! Ведь воды всемирного потопа залили все очаги, и огонь был первой потребностью уцелевших в катастрофе людей, потребностью, предшествующей жажде восстановить людской род.
Как думали, так и рассказывали. Например, индейцы племени натчи из Луизианы сообщали, что однажды пошел столь обильный дождь, что “земля была покрыта водой, кроме одной очень высокой горы. На которой спаслось несколько человек; а так как всякий огонь на земле потух, то маленькая красная птичка коуй-оуй, которую в Луизиане называется “кардиналом”, принесла с неба огонь”.
Конечно, образ птицы, таскающей в клюве огонь, не мог быть последним в эволюционном ряду элементов второго и третьего дня “шестоднева”, прикрепленных к потопной легенде, и только до времени дозволялся строгой эвгемерической критикой. Настали времена других песен и было решено, что птице горячо таскать с неба огонь, и лучше сделать ее посредницей при добывании огня. Именно к такому выводу пришли сказители Андаманских островов и сочинили следующую историю:” Все, что было живого на земле, люди и животные погибли в водах потопа, кроме двух мужчин и двух женщин, которые к счастью своему, находились в лодке, когда наступила катастрофа и потому успели спастись. Когда наконец вода спала, эта горстка людей высадилась на берег, но положение их было печально, ибо все остальные живые существа утонули. Однако создатель, который носил имя Пулугу, милостиво пришел к ним на помощь и сотворил заново животных и птиц на пользу людям. Осталось только одно затруднение: нельзя было зажечь огонь, так как потоп погасил пламя в каждом очаге, все предметы, конечно, сильно отсырели. В это время весьма кстати явился на выручку к людям дух одного из их друзей, погибшего при потопе. При виде их беды он в образе зимородка улетел на небо и здесь нашел создателя, сидевшего около своего очага. Птица дотронулась было до горящей головни, намереваясь отнести ее в своем клюве друзьям, не имевшим огня, но впопыхах, а может быть, от волнения уронила головню на священную особу самого создателя, который вне себя от негодования и корчась от боли, швырнул пылающую головню в птицу. Но он промахнулся, и головня со свистом пролетела мимо птицы и шлепнулась с неба на землю как раз в то самое место, где четверо людей сидели, дрожа от холода. Так люди добыли огонь после великого потопа”.
Кроме превращения птицы в посредника при добыче огня, в данном рассказе обращают на себя внимание две вещи. Первое, помощником людей является не собственно птица, а дух утонувшего при потопе предка, принявшего облик птицы. Такая трактовка - первый шаг птицы на пути к образу Прометея, титана, уже лишенного каких-либо птичьих атрибутов, отца греческого “ноя”, принесшего людям огонь. Второе, в андаманской версии мифа сохраняется дважды повторенный, старинный, известный по более ранним пластам потопной мифологии жест - бросок: птица роняет головню на божество, божество швыряет ее людям - так что получается двойная преемственность, птица передает божеству свою функцию спасителя человека вместе с архаичным жестом.
Дальше птица начинает просто мешать повествованию о послепотопной добыче огня, как, например, в легенде индейцев аккаваи. Они рассказывали, что их “ной” весь потоп просидел на пальме и время от времени бросал в воду орехи, чтобы по звуку узнать - не спала ли вода. Когда бедствие минуло, он спустился на землю и стал добывать огонь, но, когда сверкнула первая искра, ее жадно проглотил индюк, отчего у него на горле образовалась красная сережка.”
Наконец, дело с птицей закончилось тем, что ее просто исключили из повествования, и финалом мифа стало описание первых послепотопных опытов по добыче огня. Такие версии рассказывали новозеландцы маори, боливийцы чиригуано, ибаны с Борнео и другие. Таким образом, добыча огня после потопа - явилась последней ступенью в длиннейшей эволюции компонентов второго и третьего дня “шестоднева”, подклеенного к потопной легенде: богоптицы, добывающей со дна моря зародыш земли и народившихся светил. Схематично эту эволюцию можно представить следующим образом:
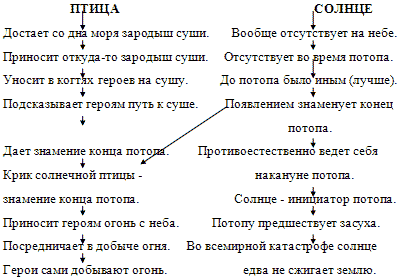 |
“Последние три дня”. О месте элементов последних трех дней “шестоднева” (растений, животных, людей) в потопной легенде вряд ли стоит долго говорить. Конечно же, они - то самое, что составляет обычно в мифе о потопе содержание ковчега. Что “адам” - прототип ”ноя”, много говорилось прежде. И по аналогии, нетрудно заключить, что растения и животные, которыми “ной” наполнил свой ковчег, были растения и животные из четвертого и пятого дня “шестоднева”.
Единственно, что следует добавить в этой связи, так это то, что в первоначальном варианте “шестоднева” бог, видимо, не создавал на четвертый и пятый день сразу все многообразие фауны и флоры, а, наподобие людей, творил неких прародителей фауны и флоры. Скажем, из растений он создал только дуб Огиг, мировое древо - предка всех растений, а из животных - какого-то четвероногого “адама”, от которого произошла вся остальная фауна. Пехлевийские источники по иранской космогонии называют, например, пятым по счету божественным творением некого “быка”, но сомнительно, чтобы такая версия была первоначальной, так как одомашниванием крупного рогатого скота человек занялся сравнительно поздно. Скорее, произведением пятого дня творения в древнейшем варианте “шестоднева” называлась собака -первый среди животных друг человека.
Такой краткий экскурс в историю четвертого и пятого дня “шестоднева” понадобился нам для того, чтобы объяснить: почему далеко не всегда в потопных мифах растения и животные играли пассивную роль простых пассажиров ковчега. Иногда они становились важнейшими элементами повествования. Например, мировое древо (плод четвертого дня творения) могло давать материал для ковчега или заменять “арарат”. В свою очередь, собака из пятого дня творения могла подменять рыбу - предвестника бедствия, птицу-спасительницу и даже жену “ноя”.
Таким образом, какие бы элементы “шестоднева” мы не брали, везде они давали в сцепке с потопной легендой многовариантность приложения, высокую способность к саморазвитию, гибкость в процессе эвгемерической переработки. Однако не это - основной вывод настоящей главы. Иное важно. То что анализ сюжетного многообразия с еще большей уверенностью позволяет говорить теперь о едином первоисточнике мифа о потопе. Есть, существует ЕДИНЫЙ ТИТУЛ героя мифа - yagha (старший, предок, вождь, царь), ЕДИНОЕ ИМЯ героя - Man (Премудрый), ЕДИНАЯ ИСТОРИЧЕСКАЯ ОСНОВА мифа - “китежская” легенда. И вся многоликость сюжетов потопной мифологии обусловлена тем, что “китежская” легенда во многих случаях была пропущена через жернова “шестоднева” и записана фольклористами на разных стадиях эвгемерической обработки этих постоянно диффузирующих мифологических слоев.
При всем том однако остается неясным: почему гигантский “шестоднев” не утопил в себе крошечную “китежскую” легенду, а скорее сам оказался поглощенным ею, и теперь “шестоднев”, а не “китежскую” легенду приходится реконструировать по отдельным конспектам и фрагментам?
Кратко на этот вопрос можно ответить так: в Мертвом море утонул один из самых первых на земле городов, являвшийся древнейшим и наиболее чтимым религиозным центром Палестины. Не людские потери, а потеря этого города стала подлинной трагедией палестинского народа. И попытки спасения этого не имеющего аналогов в “шестодневе” образа “китежской” легенды стало основной задачей сказителей мифа о потопе. За которой проблема сохранения в целости “шестоднева” отступило на задний план. Так вот, об этом городе и о попытках его мифического спасения - наш следующий рассказ.